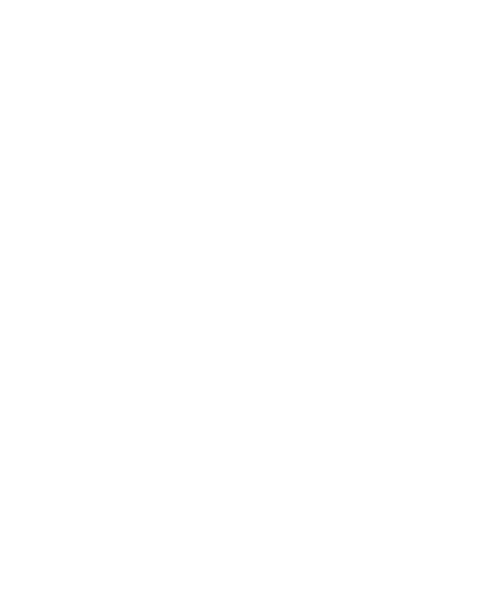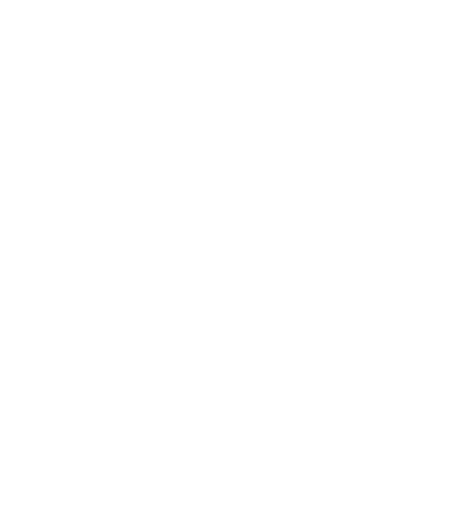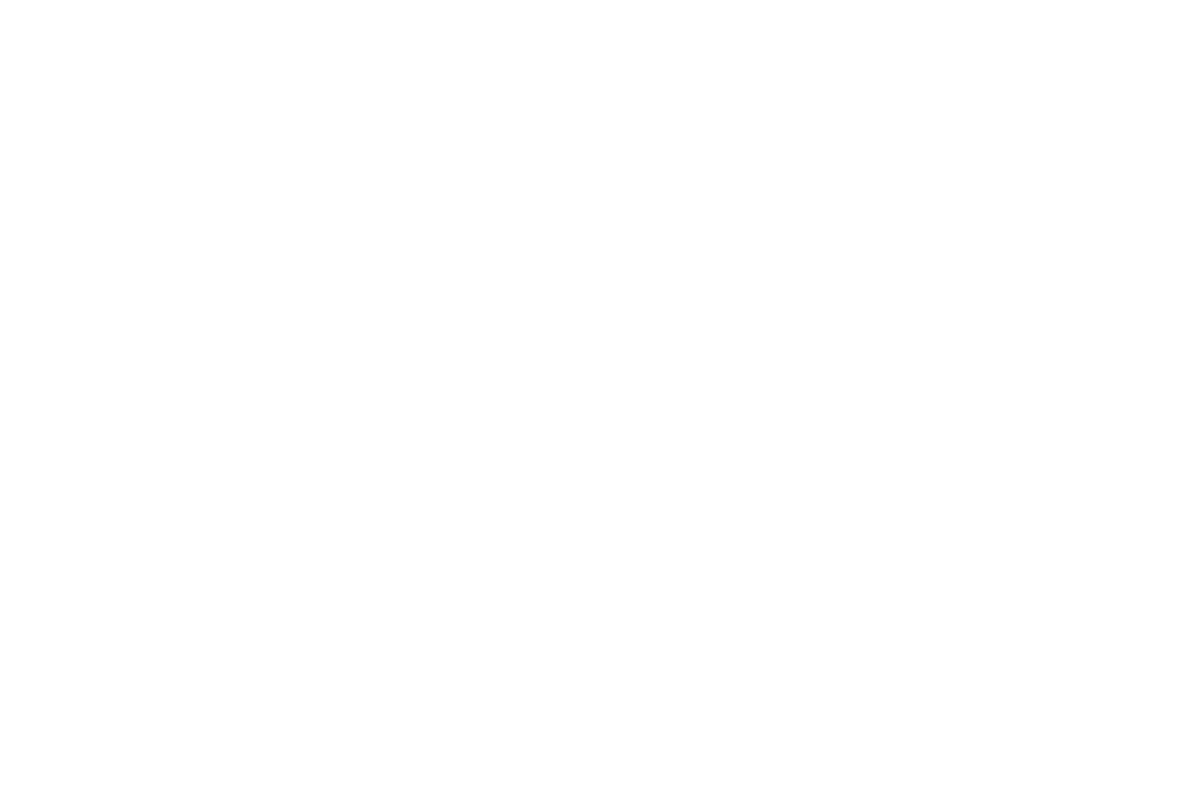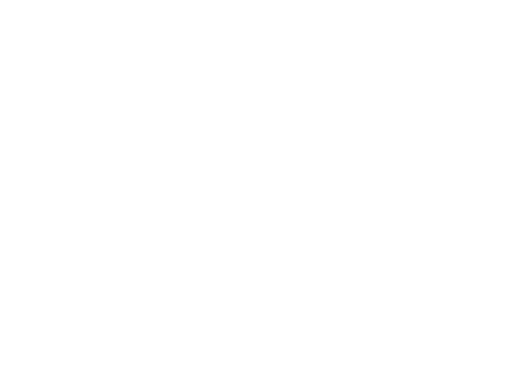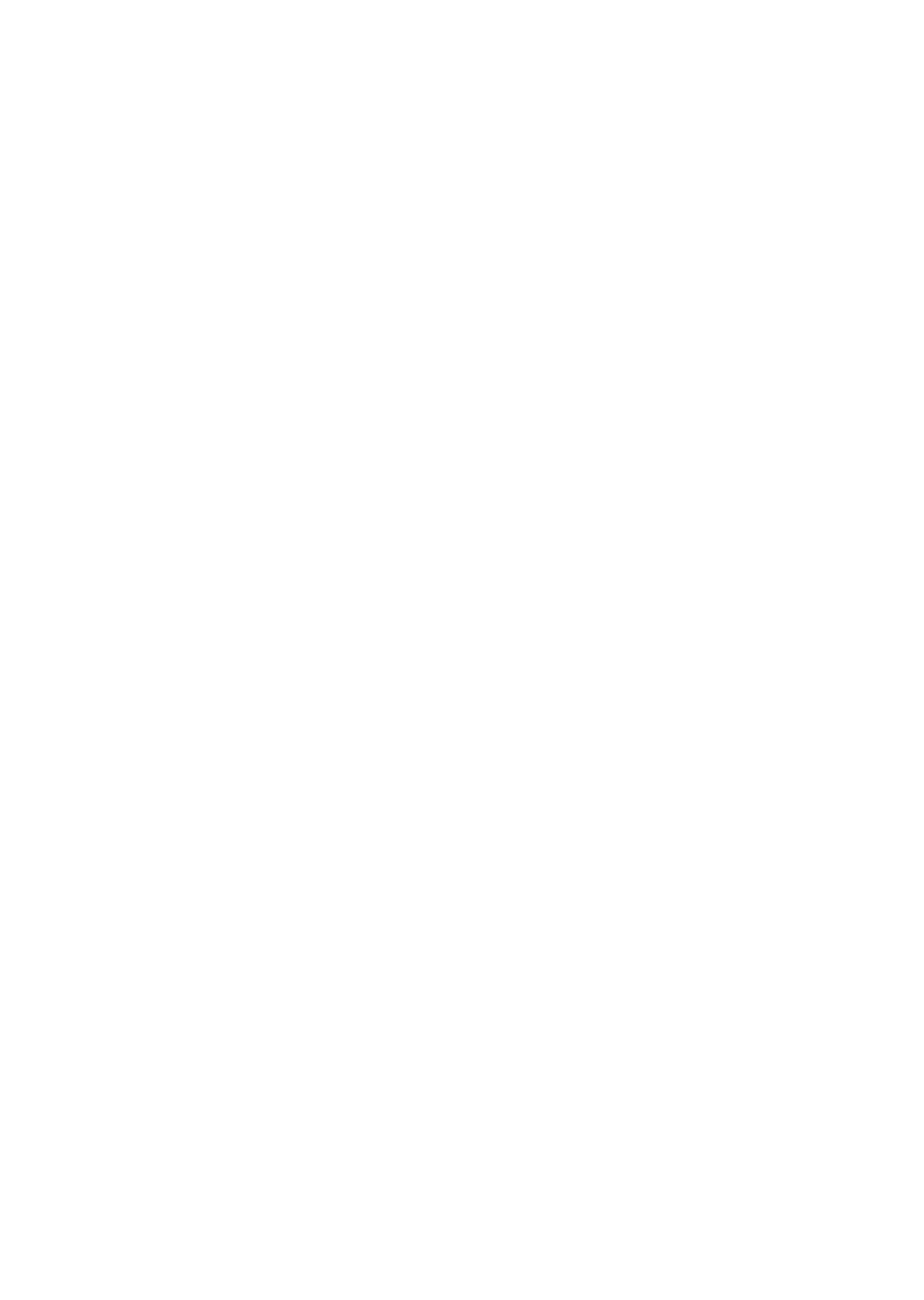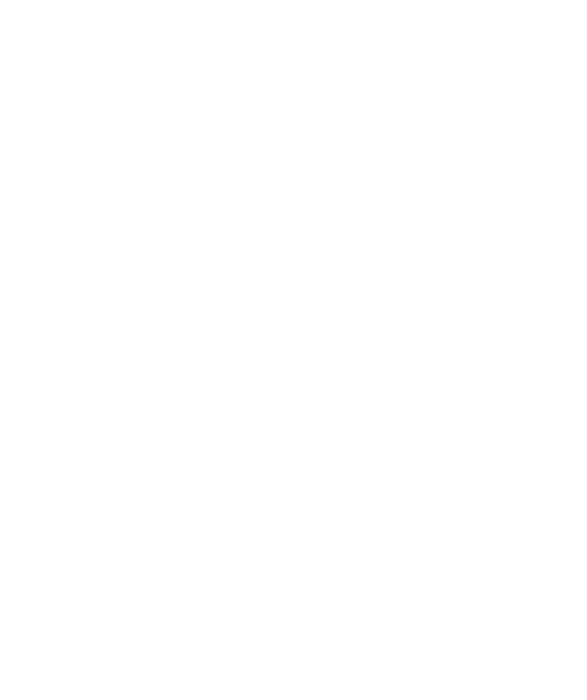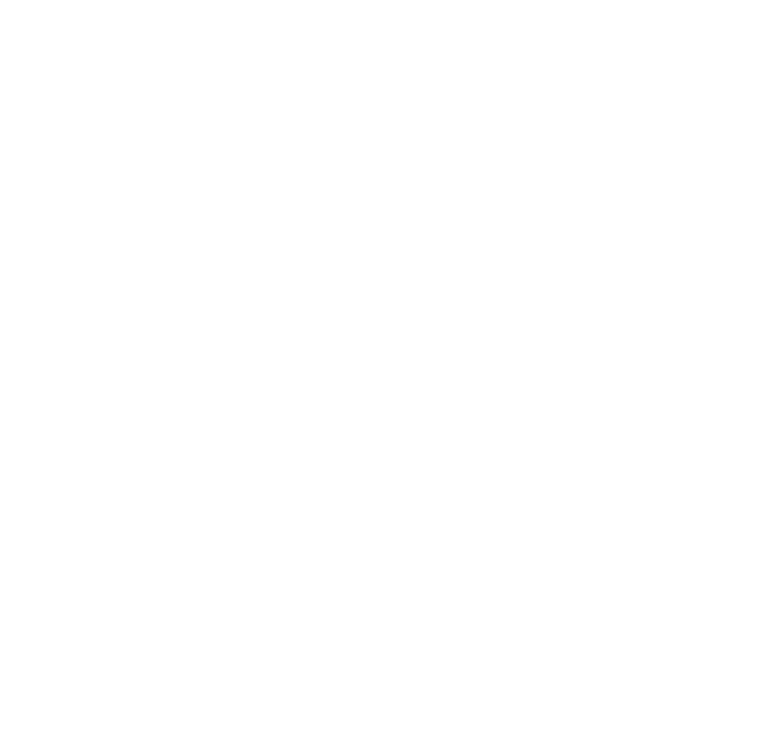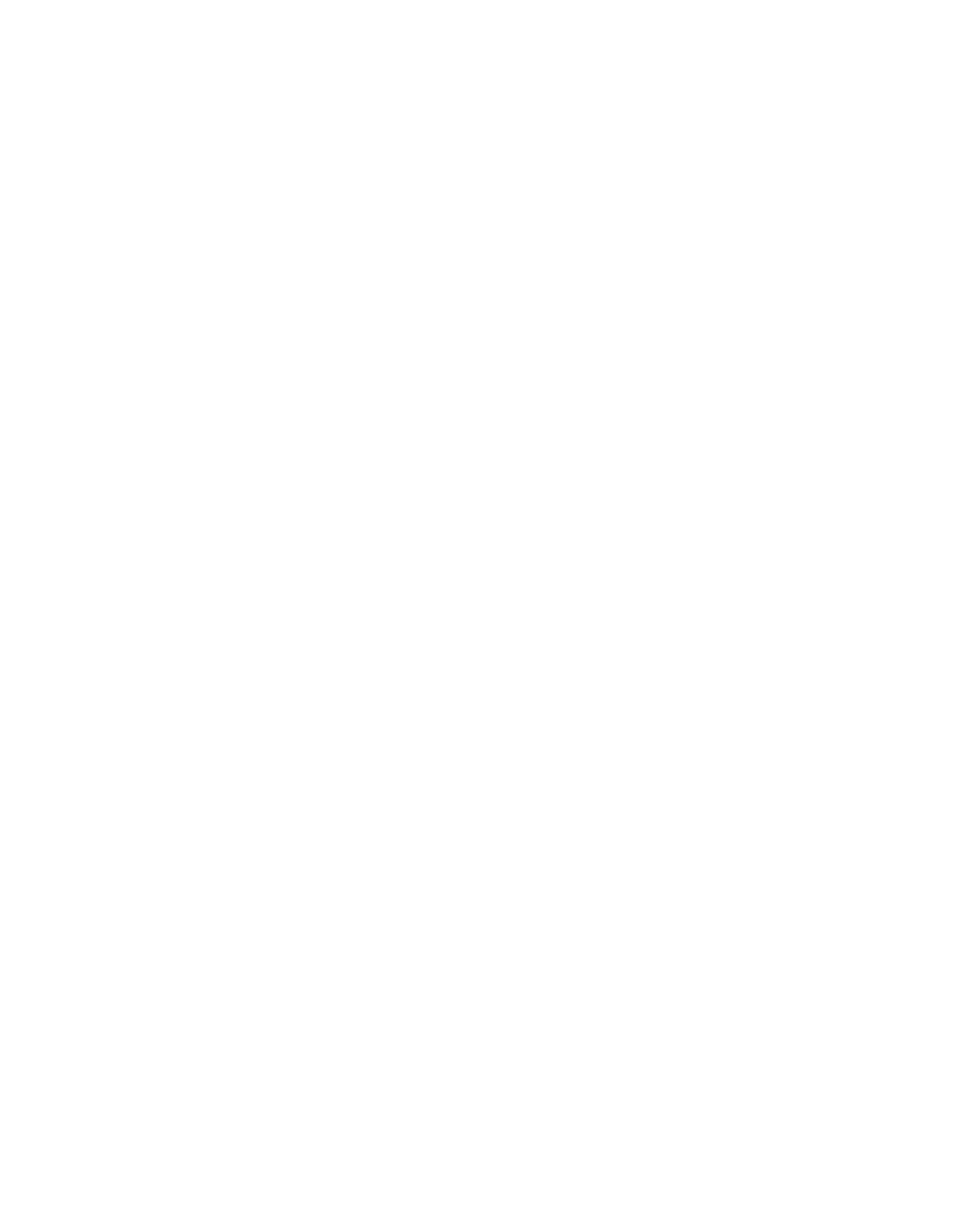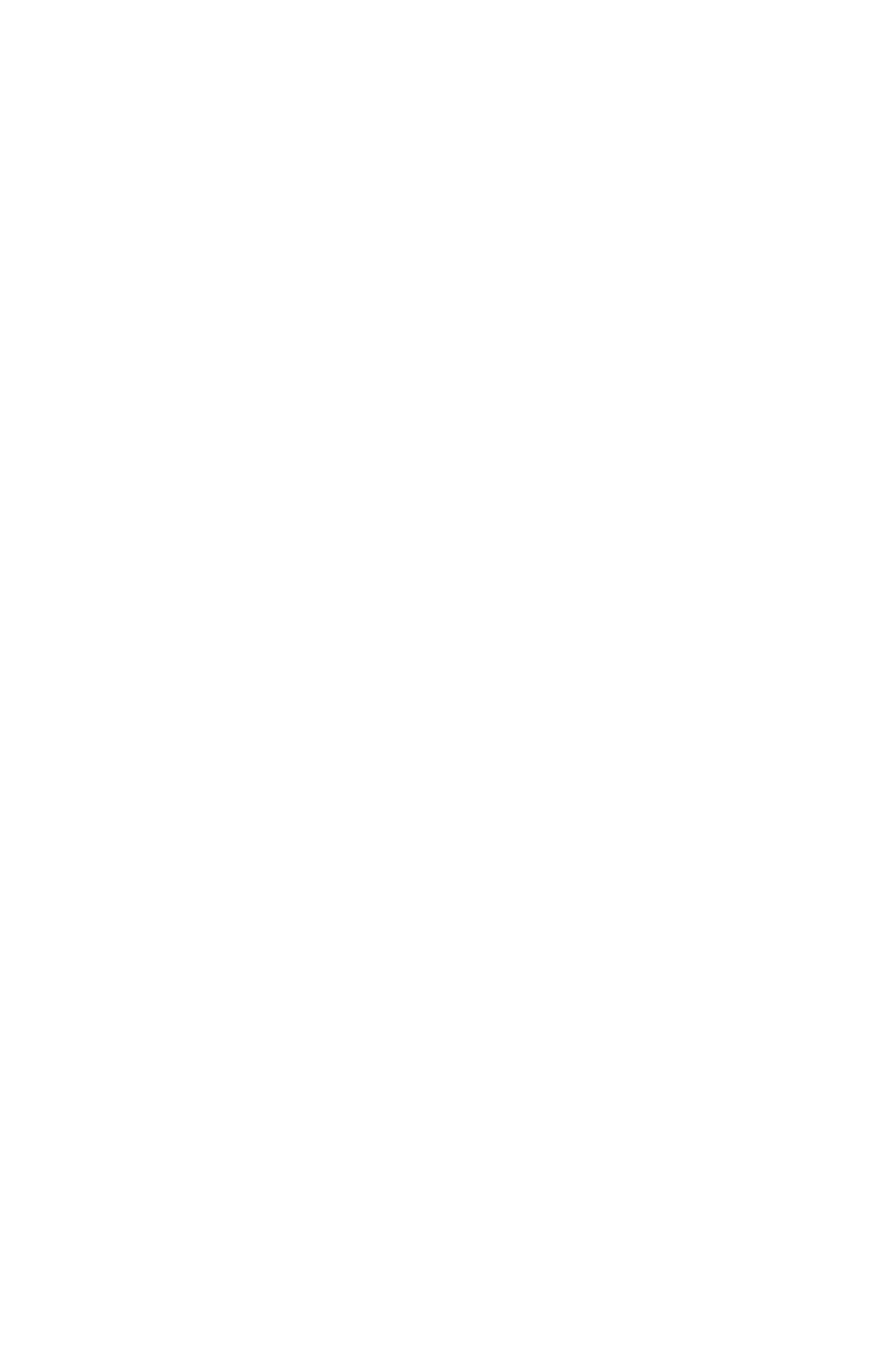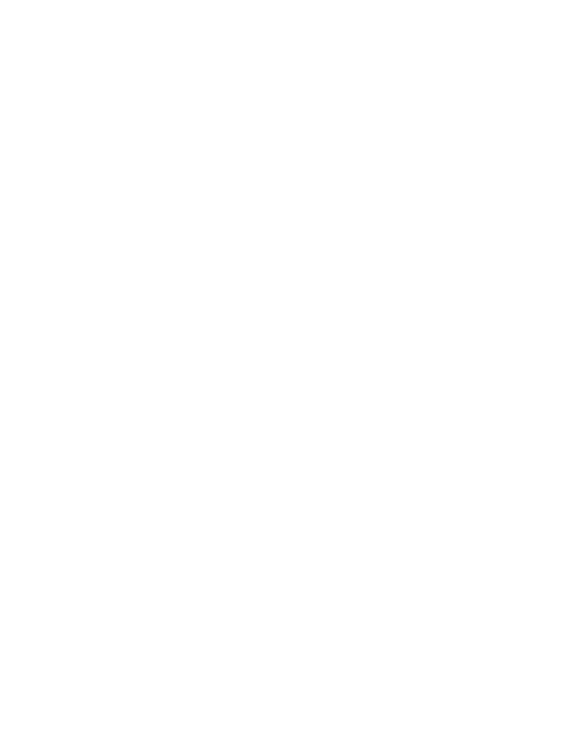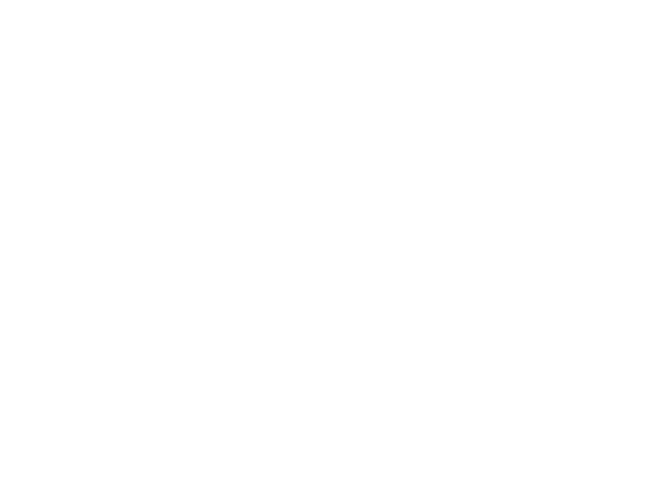| Петр I Упадок царской охоты продолжается и еще более усиливается в царствование Петра Великого. Наследственная в роде Романовых любовь к "полевым утехам" была ему совершенно чужда. В ранней юности Петр увлекся мореплаванием; на всю жизнь морское дело сделалось его всепоглощающей страстью и не оставляло места в его душе увлечению охотой. Судя по рассказам первого историка-летописца Петровского царствования, Крекшина, и автора известных "Деяний Петра Великого" Голикова, Петр I в молодости не только "не чувствовал никакой склонности" к охоте, но и был принципиальным противником охоты, как пустой и недостойной забавы. По словам Голикова, Петр однажды в ранней юности остроумно насмеялся над боярами, любителями охоты. Когда несколько бояр начали выхвалять пред ним псовую и птичью охоты как благородные забавы, прося его посетить их, Петр назначил день и место для псовой охоты. Выехав затем в поле, он объявил боярам, что желает иметь дело только с ними, а не с псарями-холопами. Псари должны были удалиться, передав собак господам. Господа же тотчас "привели псов в расстройку"; напуганные собаками лошади занесли далеко в поле своих седоков; некоторых сбили с седла; других же собаки, путаясь в сворах, стащили с лошадей. Когда на другой день государь пригласил бояр – тех, которые не лежали в постели после псовой охоты, – участвовать в соколиной охоте, то они решительно отказались, помня полученный урок. Тогда юный Петр сказал им следующее: "Аще светлая слава есть в оружии, то почто же мя ко псовой охоте от дел царских отвлекаете и от славы к бесславию приводите? Аз Царь есмь и подобает ми быти воину, а охота оная прилежит псарям и холопам". Впоследствии Петр I несомненно уже не видел в развлечениях охотой "бесславия" и хотя не очень часто, но все же не раз принимал в них участие. В 1709 г., находясь в Сумах, он приказал князю Ромодановскому выслать туда из Москвы "немедленно пять кречетов с охотниками" для птичьей охоты. В 1714 г., плывя по Балтийскому морю, Петр высадился на одном из Аландских островов и здесь участвовал в зверовой охоте, на которой застрелил одного лося и шесть зайцев. В последние десять лет своей жизни Петр охотился чаще, чем прежде. За время большого заграничного путешествия государя в 1716 и 1717 гг. мы имеем известия о пяти его охотах. |
| Петр II Юный император увлекся охотой в первый же год своего царствования, когда ему было только 11 лет. В первые же дни по вступлении его на престол светлейший князь А. Д. Меншиков, в мае 1727 г., приказал спешно "в самой скорости" доставить в Петербург из Москвы часть находившейся там царской птичьей и псовой охоты. Поселившись в Москве, окруженной со всех сторон прекрасными охотничьими угодьями, Петр окончательно оставил всякие более серьезные занятия и всецело отдался своей страсти к охоте. Увлекаясь травлей лисиц, волков, зайцев, Петр любил охотничьи поездки с князем Иваном Долгоруким также потому, что они сопровождались обыкновенно веселыми попойками и любовными похождениями. В начале осени, 7 сентября 1729 г., был предпринят самый отдаленный и самый продолжительный охотничий поход к городу Туле. Тульский "охотничий поход" Петра выдается из длинного ряда его поездок этого рода громадным количеством затравленного зверя и дичи. В течение одного только месяца, с 7 сентября по 16 октября, было затравлено 4000 зайцев, 30 лисиц, 5 рысей, убито 3 медведя и многое множество иной дичи. Поездка в Тулу с непрерывными охотами длилась два месяца. Петр вернулся в Москву только к зиме, 9 ноября. По-видимому, он за это время вполне пресытился охотою. Петр при въезде в Москву раздал желающим большую часть своих собак и резко бранил свою любимую забаву. Отдохнувши от тульских охот, Петр со второй половины дек. снова начинает охотиться в окрестностях Москвы и, между прочим, несколько раз охотится на медведей. 2 января 1730 г. он предпринял свою последнюю охотничью поездку за пятнадцать верст от города и вернулся в Москву только накануне Крещения. В истории учреждений императорской охоты царствование Петра II замечательно тем, что при нем явилась первая, заимствованная с запада, охотничья должность егермейстера. Образованием собственной охоты Петра II с новой должностью егермейстера во главе положено было начало развитию Императорской охоты XVIII века на новых основаниях, с преобладанием охоты псовой. |
| Анна Иоанновна Дело в том, что охота, стрельба и оружие занимали одно из важных мест в жизни Анны. Шведский ученый Карл Рейнхальд Берк, побывавший в Петербурге во времена правления Анны Иоанновны, писал: «Развлечения императрицы - это, смотря по времени года, бильярд, травля волков на внутреннем дворе, стрельба по птицам из окон обер-камергера, прогулки в санях или по саду. Римский император прислал ее величеству два штуцера и пистоли - говорят, чрезвычайно хорошие; во всяком случае, наверняка дорогие». По свидетельствам и других современников, императрица увлекалась стрельбой в цель. Во всех углах дворца у Анны Иоанновны под рукой были заряженные ружья. В любой момент она могла палить из окон в пролетающих птиц. Для этой забавы при дворе имелся своеобразный Зверинец. В одном из внутренних садов в клетках содержалось огромное количество птиц (сотни соловьев, зябликов, овсянок, снегирей, канареек, чижей и коноплянок). По приказу императрицы их выпускали на свободу, начиналась стрельба и комнаты наполнялись дымом и запахом пороха. Придворные дамы пугались пальбы и треска, но Анна Иоанновна заставляла и их следовать ее примеру. Анна любила охоту, и для ее развлечения специально поставляли медведей, волков, кабанов, оленей, лисиц. Только в 1740 году из Москвы в Петербург были высланы 600 живых зайцев. Немалые суммы тратились на охотничьих собак. Князь Кантемир купил в Париже для Анны 34 пары такс, а князь Щербатов приобрел в Лондоне 63 пары собак гончих, борзых и легавых. |
| Елизавета Петровна Личная охота Елизаветы Петровны была сосредоточена в Александровой слободе. При «стесненных» материальных возможностях цесаревны иметь еще одну охоту с полным штатом в какой-либо другой вотчине было невозможно. Количество участвующих в ней лиц возрастало: в 1729 году их было 10 человек, а в 1731 – 25. Внешне охота Елизаветы Петровны в то время выглядела довольно скромно. В 1729 году, будучи в Александровой слободе, цесаревна распорядилась, чтобы для всех ее участников каждые два года изготавливались по овчинной шубе и сермяжному серому кафтану. В Слободе цесаревна любила охотиться с собаками на зайцев, а соколами на птиц и тех же зайцев. На тогдашней окраине царского села стоял охотный двор, при котором жили ловчие, сокольничие и кречетники. От него к реке Серой протянулся Охотный луг, где, как пишет Н.С. Стромилов «и тешилась цесаревна напуском соколов». Кроме псовой и соколиной Елизавета Петровна также увлекалась и «егерской» охотой на тетеревов из шалашей с чучелами. Так как охота на тетеревов с чучелами велась поздней осенью и зимой, шалаши, или будки, были достаточно комфортными - с окнами и печкой. Самая известная русская императрица-охотница, Елизавета Петровна, была полной противоположностью Анны Иоанновны. Молодая Елизавета очаровывала окружающих своей живостью и веселостью. Она была бесстрашной наездницей и неутомимой охотницей. С наступлением лета Елизавета ежедневно совершала конные прогулки. Вместе с юным царем Петром II она участвовала в многодневных охотничьих забавах в Измайлове, других уголках «первопрестольной» и ее окрестностей, например, в усадьбе А.Г. Долгорукова в Горенках. |
| Петр III Якоб Штелин писал о Петре III: «Довольно остроумен, в особенности в спорах, что развивалось и поддерживалось в нём с юности сварливостью его обер-гофмаршала Брюммера». Штелин отмечал, что император любил музыку, живопись, фейерверк. «От природы судит довольно хорошо, но привязанность к чувственным удовольствиям более расстраивала, чем развивала его суждения, и потому он не любил глубокого размышления. Память — отличная до крайних мелочей. Охотно читал описания путешествий и военные книги. Как только выходил каталог новых книг, он его прочитывал и отмечал для себя множество книг, которые составили порядочную библиотеку. Штелин писал: «Будучи великим князем и не имея места для библиотеки в своём петербургском дворце, он велел перевезти её в Ораниенбаум и держал при ней библиотекаря. Став императором, он поручил статскому советнику Штелину, как своему главному библиотекарю, устроить библиотеку в мезонине его нового зимнего дворца в Петербурге, для чего были назначены четыре большие комнаты и две для самого библиотекаря. Для этого, на первый случай, назначил он 3000 рублей, а потом ежегодно 2 тысячи рублей, но требовал, чтобы в неё не вошло ни одной латинской книги, потому что от педантического преподавания и принуждения латынь опротивела ему с малолетства». Штелин о Петре Фёдоровиче в бытность его великим князем: «Не был ханжою, но и не любил никаких шуток над верою и словом Божиим. Был несколько невнимателен при внешнем богослужении, часто позабывал при этом обыкновенные поклоны и кресты и разговаривал с окружающими его фрейлинами и другими лицами. Императрице весьма не нравились подобные поступки. Она выразила своё огорчение канцлеру графу Бестужеву, который, от её имени, при подобных и многих других случаях, поручал мне делать великому князю серьёзные наставления. Это было исполняемо со всей внимательностью, обыкновенно в понедельник, касательно подобного неприличия его поступков, как в церкви, так и при дворе или при других публичных собраниях. Он не обижался подобными замечаниями, потому что был убеждён, что я желал ему добра и всегда ему советовал, как можно более угождать её величеству и составить тем своё счастье». «Чужд всяких предрассудков и суеверий. Помыслом касательно веры был более протестант, чем русский; поэтому с малолетства часто получал увещания не выказывать подобных мыслей и показывать более внимания и уважения к богослужению и к обрядам веры», — писал Якоб Штелин о Петре III. |
| Екатерина II Екатерина II была большой любительницей старинной русской "соколиной потехи", ей доставляло большое удовольствие смотреть со стороны на соколиные ставки. Во время пребывания в Москве, с июля по сентябрь 1767 г., Екатерина еще чаще развлекалась соколиной охотой, чем в Петербурге в предшествующем году. Если принять во внимание только одни записи камер-фурьерских журналов, можно насчитать: 32 выезда с соколиною охотою, 3 – со псовою и 2 – на тетеревов с чучелами152; всего 37 охотничьих выездов за 4 месяца. Любовь императрицы Екатерины II к охоте соколиной ясно отразилась на личном составе охоты, как это видно из сравнения штатов 1761 и 1766 гг. В то время как численность чинов псовых и зверовых охот в 1766 г. значительно снизилась, личный состав птичьей охоты заметно увеличился: с 39 человек (в 1761 г.) до 49 человек (в 1766 г.). Вся организация птичьей охоты в списке 1766 г. представлена значительно полнее и разработаннее. Во всех указанных разнообразных учреждениях Императорской охоты по штату 1773 года числилось всего 321 человек; на содержание их ассигновалось в год до 37.600 р. Кроме того, 30.600 р. положено было на содержание охот, т. е. на кормы и лекарство зверям и птицам, на ремонт зданий, канцелярские расходы, покупку ружей и пороху и проч. Всего же на Императорскую охоту ассигновано в год до 68.200 р. в 1774 году они достигли 81 286 рублей, что было крупной суммой по тем временам. Указания о возникновении охоты с ловчими птицами (соколами, ястребами, орлами-беркутами) в России относятся к XI веку. Она пришла к нам из стран Юго-Востока и Малой Азии, а возникла в Индии. Наиболее распространенной была охота с соколами, для подъема птицы в воздух использовались подсокольи собаки. Наивысшего развития охота с ловчими птицами достигла в XVII в. при царе Алексее Михайловиче, хотя у князя Олега в Киеве ( XI в.) тоже был соколий двор. Сокола для царского двора отлавливались специальными охотниками. Распалась охота с ловчими птицами в начале второй половины XVIII в. с появлением охотничьего оружия и стрельбы дробью. Охота выглядит следующим образом: охотник с собакой и птицей на руке идет по угодьям в поисках дичи. Сокол сидит в клобучке. Когда дичь обнаружена, запускают собаку, которая пугает птицу, и та взлетает. Тогда снимают клобучок, и сокол, слетев с перчатки, описывая в полете вокруг охотника круги, набирает высоту и резко бросается на свою добычу. Скорость полета некоторых особей в момент нападения на жертву может достигать 100 км/ч. Обрушиваясь на жертву с такой скоростью, сокол не должен с ней столкнуться, чтобы не разбиться о нее, и не может схватить ее лапами, иначе повредит их. «Ружейному занятию Екатерину, видимо, научил ее супруг Петр III. Он научил ее стрелять, обращаться с ружьем. Есть свидетельства, что, находясь в императорской резиденции в Ораниенбауме, она в три часа утра с проводником шла к Финскому заливу и на лодке отправлялась к тростникам, где охотилась на уток. |
| Павел I Император Павел I не чувствовал к охоте ни малейшей склонности. В архивах не сохранилось никаких сведений хотя бы об одной охоте в его присутствии. Павел I был любителем собак, но не охотничьих. Через неделю после вступления на престол 13 ноября 1796 г. Павел I предписал, чтобы «птичью охоту (соколиную охоту) с служителями не выписывали из Москвы в Петербург впредь до особого повеления». В результате соколиная охота, помещавшаяся на Семеновском потешном дворе, пришла в упадок. Добывание ловчих птиц (соколов и кречетов) стало делом затруднительным, ведь Павел I отнял податные льготы и преимущества у всех повытчиков, обратив их в дворцовых крестьян, за исключением повытчиков Казанской губернии. Через полтора месяца после вступления на престол императора Павла I утвержден был новый яхт-штат. Этим штатом размеры придворной охоты были сокращены по сравнению со штатом 1773 г. почти вдвое. Общее число чиновников и служителей было уменьшено с 321 до 162 человек. Особенно усиленному сокращению подверглись наиболее существенные части Императорской охоты – псовая и птичья. Из 86 человек псовой охоты 1773 г. в новом штате осталось только 55, а птичьей охоты – 19 человек вместо прежних 45. Осталась без перемен только егермейстерская команда. |
| Александр I Император Александр Павлович унаследовал от своего отца нерасположение к охоте. В России он не охотился ни разу и лишь во время поездок за границу принимал участие совершенно официально в охотах, устраиваемых иностранными монархами, вместе с другими увеселениями в честь его посещения. Александр I скорее выступал в роли защитника природы, подкармливая птиц в царскосельских озерах. Несмотря на то что он был хорошим ружейным стрелком и в 1822 г. взял приз в состязании во время Веронского конгресса, лейб-хирург Д. К. Тарасов рассказывает в своих воспоминаниях, что государь во время пребывания своего в Царском Селе часто посещал птичий двор. Государь рано утром «выходил в сад через собственный выход в свою аллею, из коей постоянно направлялся к плотине большого озера, где обыкновенно ожидали его: главный садовник Лямин и все птичье общество (до сотни лебедей, а также гуси и утки), обитавшее на птичьем дворе, близ этой плотины. К приходу его величества птичники обыкновенно приготовляли в корзинах разный для птиц корм. Почуяв издали приближение государя, все птицы приветствовали его на разных своих голосах. Подойдя к корзинам, его величество надевал особо приготовленную для него перчатку и начинал им сам раздавать корм» |
| Александр II Неотъемлемую часть досуга императора Александра II составляла охота. Об этом свидетельствуют многочисленные документы - записные книжки императора, камер-фурьерские журналы, мемуары современников. Страсть к охоте пробудилась у Александра II весьма рано. По свидетельству его воспитателя К.К. Мердера, наследник-цесаревич уже в возрасте десяти лет неплохо владел техникой ружейной стрельбы. С тринадцати лет будущий император охотился на уток и зайцев, в четырнадцать лет впервые принял участие в охоте на волков, а в девятнадцать - в медвежьей охоте. Страсть к охоте была у цесаревича столь велика, что порой он отдавал ей предпочтение перед учебой. Охотничьи увлечения наследника естественным образом переросли в охотничьи сезоны императора, начало которым положили коронационные торжества Александра II в 1856 году. Весной Александр II охотился на вальдшнепов и глухарей в Осиновой роще, близ Парголова, на Выборгской стороне, Черной речке и в Большом Лисине, где глухариные тока и тяга вальдшнепов находились в двух верстах от дворца. Осенью государь отдавал предпочтение охоте на волков, лисиц, зайцев и оленей в окрестностях Гатчины и Ораниенбаума. Осенью 1860 года Александр II положил начало высочайшей охоте в Беловежской пуще. Выбор места был не случаен. Охоту приурочили к важным дипломатическим переговорам между Россией, Пруссией и Австрией. В честь высоких гостей в Беловеже устроили фейерверк и затем всех коронованных особ разместили в охотничьем дворце императора. Охота началась утром следующего дня, но ей предшествовала долгая и тщательная подготовка. В течение нескольких дней до начала охоты две тысячи загонщиков устраивали в заповеднике облавы на зубров, лосей, серн, кабанов, лисиц, волков, барсуков, зайцев и загоняли их в зверинец. На его же территории построили для охотников 12 крытых галерей - штандов, замаскированных ветвями. Для публики у стен зверинца был устроен амфитеатр. Императорская псовая охота, долгое время бывшая, как мы видели, в полном упадке, обновляется в царствование императора Александра II и достигает высокой степени развития, об этом свидетельствуют награды, получавшиеся ею на следующих выставках: в 1867 г., по повелению императора Александра II, была отправлена в Париж на Всемирную выставку "свора Его Величества борзых собак", где императорские борзые получили золотую медаль. В мае 1878 года на Охотничьей выставке (в Конногвардейском манеже) выставленным придворной охотой гончим и борзым собакам были присуждены две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали. Наконец, в начале 1881 года, на седьмую очередную выставку "Императорского Общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты" с высочайшего соизволения были отправлены из Императорской охоты в Москву 47 собак, которые также получили высшие награды. |
| Николай I Император Николай Павлович не был страстным охотником, но он далеко не был чужд развлечениям охоты, и его прекрасный рыцарский образ является одним из лучших украшений нашей истории Императорской охоты. Первые записи Камер-фурьерских журналов об охотах императора Николая I относятся ко времени пребывания его в Гатчине в сентябре 1831 года. Император Николай Павлович не любил охоты на вольного зверя – на волков, медведей или лосей, сопряженной с опасностью и требующей дальних поездок, но он очень любил охоту на оленей, отчасти также на мелкую дичь – зайцев, фазанов, куропаток. В зависимости от личных вкусов государя зверинцы поддерживаются в хорошем состоянии, постоянно наполняясь оленями, и вновь возникает для его охот на фазанов фазанное заведение, а также устраивается и заячий ремиз по образцу ремизов, существовавших в германских государствах. Псовая же придворная охота, не интересовавшая государя, приходит в упадок так, что обер-егермейстер в тридцатых годах предлагал даже вовсе ее уничтожить. 26 апреля 1826 г. государь потребовал значительно сократить личный состав придворной охоты, уже сильно уменьшенный в два предшествующие царствования. Птичью охоту при этом решено было совсем уничтожить, в егермейстерской же команде с псовою охотою уменьшить, по крайней возможности, число людей и лошадей. Согласно этому Московская соколиная охота, пришедшая в крайний упадок в царствование императора Александра I, была окончательно упразднена. Вскоре по своем вступлении на престол император Николай I в видах сокращения расходов по придворному ведомству одобрил предложение обер-егермейстера Нарышкина о переводе Императорской охоты из Петербурга в Петергоф. С переводом в 1829 году Императорской охоты в Петергоф, здесь сосредоточились почти все охотничьи учреждения, размещавшиеся раньше в Петербурге и других местах. В самой Слободе помещена была псовая охота, а рядом с Слободой был устроен зверовой дом. Другим центром охотничьих учреждений в Петергофе был Большой петергофский зверинец. В нем были устроены заячий садок, оленник, фазанное и куропаточное заведения, а рядом с последними – ремиз. |
| Александр III Подобно отцу, Александр увлекался охотой и рыбалкой. Часто летом царская семья уезжала в финские шхеры. Любимым местом охоты императора была Беловежская пуща. Александр III питал особое пристрастие к ружейной охоте в зверинце на оленей, лисиц и зайцев, не упускал случая поохотиться и на крупного зверя. «...Их Величества намереваются ехать на медвежью охоту на будущей недели в среду, - сообщал великий князь Владимир Александрович Черткову. - Выезд из Гатчины на 10 ч. утра. Полагаю, что кроме Императрицы в охоте примут участие еще две или три дамы. Было бы совершенно достаточно, если бы Вы приказали приготовить восемь нумеров. Настаиваю на завтраке в лесу: в прежние времена всегда так делалось; времени же для устройства и расчистки подходящего места много впереди». Среди участников охот были и иностранные гости, появление которых на подобных мероприятиях не всегда диктовалось только охотничьими пристрастиями. В письме к Черткову великий князь Владимир Александрович писал: «Я предложил герцогу Эдинбургскому ехать на охоту ночью во вторник после нашего бала, по варшавской дороге на станцию Билак. Закажу поезд к 5 ч. утра. Нумеров потрудитесь приказать приготовить не более четырех. Я бы очень желал, чтобы обоих медведей убил мой beau-frere. Надеюсь, что времени для нужных распоряжений еще хватит»6. Александр III и великие князья часто охотились в окрестностях Петергофа, в Пустомерже, а также в Лисинском заповеднике. 27 сентября 1882 года Чертков организовал охоту для Александра III у деревни Настолово, близ Петергофа. Во время охоты «убито лисиц - 1, зайцев - 15, тетеревей - 10, сов - 1. Итого 27. Нумеров 15. Выстрелов 144». |
| Николай II Охота была наследственным увлечением Николая II. Его отец Александр III начинал охотиться ещё мальчишкой, а в 1860-х годах его брал с собой на охоту Александр II, причем в качестве охотничьих трофеев были и медведи. В одном из писем к жене Александр III пишет: «Вчера не успел писать, так как были на охоте с Ники (наследник цесаревич Николай Александрович) с 4 вечера до 5 часов утра. Охота неудачная, канальи-глухари не хотели петь, я ранил одного, он упал, но отыскать не могли; то же самое и Ники. Но он стрелял по двум и, как всегда, ничего не убил; ему не везет на глухарей, и до сих пор ни одного глухаря ещё ни разу не убивал. Погода тоже была неприятная, серая, и моросил дождь почти всё время…» Николай II стал активным охотником, он тщательно описывал участников охоты, ее обстоятельства и охотничьи трофеи (общие и свои личные) в своём дневнике. Так, 8 декабря 1891 года он убил первого лося, оставив в дневнике запись: «Радость была огромная, когда я его повалил!». Его индивидуальный итог на охоте мог достигать сотен и тысяч экземпляров дичи. В частности, английский посол Дж. Бьюкенен говорил, что на одной из охот Николай лично за один день убил 1400 фазанов. Николай охотился в пригородах Петербурга, в Гатчине, финских шхерах Виролахти, Беловежской пуще. Император продолжал охотиться и в нестабильный период Первой русской революции 1905 года. С 1906 года на охоту стали выезжать на автомобилях. С 1886 по 1909 год Николай застрелил 104 зубра, первых 7 зубров он убил в Беловежской пуще в сентябре 1894 года. В 1900 году он поставил свой личный рекорд, убив 41 зубра. Как правило, охота продолжалась несколько дней, и в ней, кроме Николая II, принимали участие лица, которые получили приглашение, что в то время означало высокую милость монарха, поэтому в отчетах складывались общие трофеи всех участников и личные трофеи императора. Охотиться на зубров в пригородах Петербурга могли только члены императорской семьи. |